О чем бы ни писал Мирон Петровский, его работы – пример абсолютного читательского понимания. Да, они же – и пример профессионального анализа. Но анализ этот произведен не холодным скальпелем отстраненного исследователя, а горячим сердцем влюбленного читателя. Его книги, высокий образец филологического мастерства по способу мышления, воссозданию контекста, инструментарию, никогда не читались бы так, как они читаются, если бы каждая из них не была скрытым или явным признанием в любви к своему герою; своего рода гимном читательской любви.
Его давно ставшая классической работа «Книги нашего детства» – это, безусловно, филология. Но это столь же безусловно и лирика. Эту книгу, столь богатую историко-литературными контекстами, невозможно понять до конца, не учитывая ее лирического подтекста. Такую подсказку предлагает нам и сам автор: «…будут правы те читатели, которые догадаются о лирической основе этих историко-литературных очерков».
У книги этой есть удивительное свойство – как только начинаешь ее читать, почти физически начинаешь ощущать тепло, которое от нее исходит. Я читала ее много раз, и каждый раз это ощущение приходило заново, с первой же страницы.
Вспомним – она и начинается с тепла: «Уголь отдает тепло, сгорая, – книга выделяет тепло, когда ее читают. Чтение – процесс культурно-энергетический, и культуру правильно сравнивают с надышанным теплом – заботливо сохраненным жаром человеческого дыхания».
Это «Пятикнижие» Мирона Петровского – книга о пяти книгах и пяти писателях: Корнее Чуковском, Самуиле Маршаке, Владимире Маяковском, Александре Волкове, Лайме Фрэнке Бауме. Это же и признание в любви старому сказочнику, точнее двум – Чуковскому и Маршаку. Оба этих писателя сыграли в жизни Мирона Петровского роль совершенно особую. У обоих он был неформальным литературным секретарем, у обоих учился, оба стали впоследствии героями его книг: Чуковский – вышедшей тремя изданиями «Книги о Корнее Чуковском», а Маршак – неизданной, увы, книги о Маршаке. Но в «Книгах нашего детства», полагаю, прячутся в свернутом виде какие-то из наметок или идей той невышедшей книги. Так же как есть, убеждена, в ней в «свернутом» виде какие-то положения из его также невышедшей книги о культурных контекстах Маяковского.
Как читатель, который чувствует себя в долгу перед этой книгой, позволю себе еще один пассаж.
Я берусь утверждать, что «Книги нашего детства» – это помимо всего прочего не имеющий аналогов универсариум, «ансамбль спецкурсов», путеводитель и навигатор, который помогает пройти весь курс филологических дисциплин и приобрести нужные исследователю навыки, «как бы резвяся и играя».
В этой сказочно увлекательной книге о сказках, так же как в других книгах Мирона Петровского, есть весь необходимый начинающему исследователю «багаж»: история литературы и поэтика, связи синхронические и диахронические, экскурсы в области смежные и далековатые – история театра и кино, отсылки к физике, архитектуре, фольклористике, городоведению... Есть умение мгновенно находить нужное, сопоставлять неочевидное и выявлять невидимые на первый взгляд связи. Есть сочетание абсолютной свободы с абсолютной дисциплиной.
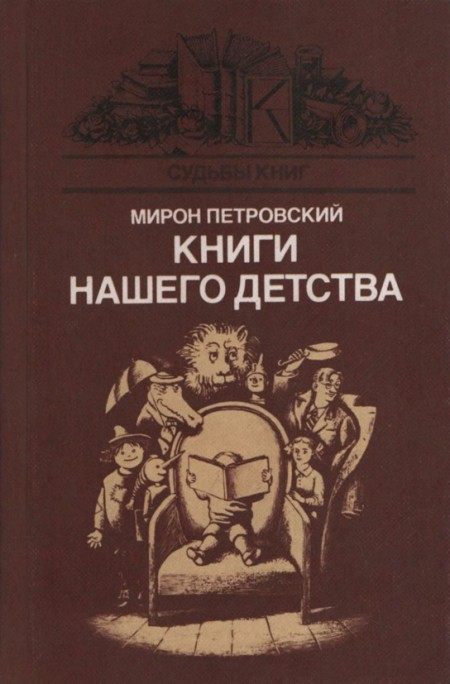
Мирон Петровский, «Книги нашего детства».
Обложка первого издания
И – едва ли не самое необходимое для филолога – умение задавать правильные вопросы к прочитанному. Но оно же – и едва ли не самое сложное. Почему-то на филфаке этому не учили. А работа Мирона Семеновича властно и настоятельно звала именно к такому способу общения с книгой.

Мирон Петровский, «Книги нашего детства».
Обложка второго издания
Для иллюстрации приведу только одну цитату – из главы «Крокодил в Петрограде», посвященной сказочной поэме Чуковского «Крокодил»:
«Вся сказка искрится и переливается самыми затейливыми, самыми изысканными ритмами – напевными, пританцовывающими, маршевыми, стремительными, разливисто-протяжными. Каждая смена ритма в сказке приурочена к новому повороту действия, к появлению нового персонажа или новых обстоятельств, к перемене декораций и возникновению иного настроения. Вот Крокодилица сообщает мужу о тяжком несчастье: крокодильчик Кокошенька проглотил самовар (маленькие крокодильчики ведут себя в этой сказке – и в других сказках Чуковского – подобно большим: глотают что ни попадя). Ответ неожидан:
Как же мы без самовара будем жить?
Как же чай без самовара будем пить? –
дает Крокодил выход своему отцовскому горю. Но тут –
Но тут распахнулися двери,
В дверях показалися звери.
Ритм сразу меняется, как только распахиваются какие-нибудь двери. Каждый эпизод сказки получает, таким образом, свою мелодию. Вот врываются былинные речитативы, словно это говорит на княжеском пиру Владимир Красное Солнышко:
Подавай-ка нам подарочки заморские
И гостинцами порадуй нас невиданными…
Затем следует большой монолог Крокодила, вызывая в памяти лермонтовского “Мцыри”:
О, этот сад, ужасный сад!
Его забыть я был бы рад.
Там под бичами сторожей
Немало мучится зверей…
Ритм, подобный лермонтовскому, появляется еще в одном месте сказки:
– Не губи меня, Ваня Васильчиков!
Пожалей ты моих крокодильчиков! –
молит Крокодил, словно бы подмигивая в сторону “Песни про купца Калашникова…”. Ироническая подсветка героического персонажа, достигаемая разными средствами, прослеживается по всей сказке и создает неожиданную для детского произведения сложность образа: подвиг Вани Васильчикова воспевается и осмеивается одновременно. По традиции, восходящей к незапамятным временам, осмеяние героя есть особо почетная форма его прославления – с подобной двойственностью на каждом шагу сталкиваются исследователи древнейших пластов фольклора. Героический мальчик удостоивается наибольшей иронии сказочника как раз в моменты своих триумфов. Все победы Вани Васильчикова поражают своей легкостью. Нечего и говорить, что все они бескровны.
Вряд ли во всей литературе найдется батальная сцена короче этой (включающей неприметную пушкинскую цитату):
И грянул бой! Война, война!
И вот уж Ляля спасена».
После прочтения «Книг нашего детства» пришло острое осознание своей читательской ограниченности, а вместе с ним – недоумение и даже обида. Как же так? Почему мне никто не объяснил, что филология – это выход в открытый космос и вместе с тем – путешествие вглубь ядра? Почему в университете нам преподавали филологию как политическую карту мира, где все дисциплины отделены друг от друга непроходимыми границами, которые строго охраняются назначенными смотрителями?
«Книги нашего детства» предлагали иной взгляд на филологию – как на мир единый и взаимопроницаемый. Наверное, так видят планету географы и космонавты. Так смотрел на нее летчик из пастернаковского стихотворения.
Конечно, утверждению этого взгляда способствовали не только «Книги нашего детства», но именно книга Мирона Петровского являла его с наибольшей очевидностью. Идеальный самоучитель филологии, для меня она стала хулиганским подрывником основ и в то же время заботливым проводником, помогавшим продираться сквозь мои собственные завалы и нагромождения.
Продираться сквозь них было мучительно, но тут были не только мучения. Так левша, выйдя из стен школы, где его упорно учили писать правой рукой, вздыхает с облегчением, узнав, что выводить буквы «как надо» вовсе не обязательно. И обретает свободу писать так, как это естественно для него.
Почувствовать себя филологом мне помогло интенсивное погружение в «Книги нашего детства», которые, едва закончив читать, я тут же начинала перечитывать заново. Мало что оказалось таким увлекательным и вместе с тем таким необходимым для осознания себя в ремесле, как этот краткий курс молодого бойца, мирного воителя филологии, первопроходца спорных научных гипотез, путешественника за бесконечно открывающимися смыслами.













