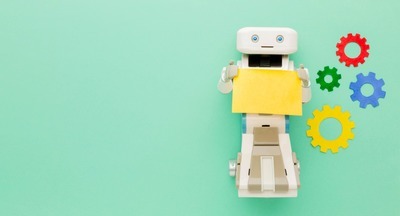Лето – время книг, которые потом переписываются в нашем сознании
Ужасная глупость – книжные «топы», вроде «100 книг, обязательных к прочтению». Кто бы их ни рекомендовал. Книги вообще можно рекомендовать только штучно, по поводу, а не списком (если, конечно, речь не идет о систематическом изучении чего-то). К тому же книги имеют обыкновение приходить в нашу жизнь неожиданно, без спросу. И лишь задним числом формируется «список».
Любое чтение, любое обращение к книге – дело очень и очень интимное. Вереницы непрочитанных книг на полках напоминают очередь – к тебе. Чья-то так никогда и не придет. Но есть и внеочередники, и те, кому удается отстоять по несколько раз. Самые большие счастливчики переезжают на стол. «...Николай Васильевич, вы за кем занимали – за Антоном Павловичем? А вы куда без очереди, Федор Михайлович? При чем тут школьная программа? А это кто? Патрик Зюскинд? Много вас тут таких ходит (стоит)... Нет, Ваня Пупкин всех до конца месяца не примет!» И очередь движется по своим законам, порой неисповедимым – законам жизни.
Да и 100 книг – это очень мало. Обязательно найдется сто первая. И именно она лично для вас, здесь и теперь, может стоить всей этой сотни. Будучи в чем-то главном первой. Как и любая из сотни «списочных» книг может набрать смысловой вес, равный весу 99 остальных вместе.
Ведь хорошая книга – не просто первая. Всегда единственная.
Поэтому школьником я лишь краешком одного глаза заглядывал в список книг для летнего чтения. Обожая это удивительное занятие. Я его всегда ждал – вместе с летом. Вместе с каникулами. Школа стоит над душой читателя. И это худшее – для него и для книги. Да, пожалуй, и для школьной литературы.
Зато летом книги – во всех смыслах – раскрываются по-особому. Теплый ветерок свободно шуршит их страницами, без всякого «от сих до сих» с обязательным отчетом о прочитанном. Безотчетное летнее чтение – даже «по списку». Ветерок шелестит страницами, историями, судьбами, героями… Или ты сам, внезапно осознающий себя вершителем этой свободы? Ты можешь положить или даже забросить книжку, чтобы умчаться вдаль на велосипеде и снова вернуться к ней. За время твоей прогулки в книге могло «созреть» что-то новенькое, чего еще не было перед тем, как ты разменял ее на руль и педали. А через годы жизненных странствий хорошие книги и вовсе переписываются в нашем сознании. В итоге – на языке, понятном нашим детям и внукам. И по-настоящему – нам самим, когда мы начинаем читать им на этом языке.
121-летие автора одной из таких перечитываемых и «переписываемых» книг – Антуана де Сент-Экзюпери – отмечается 29 июня. Книги из детства, книги из лета, которое казалось вечным. А оказалось единственным. Но ведь вечность – это не «навсегда», вечность – это иногда, и если повезет.
Исследование взрослости на прочность
Когда я окончил первый класс, отец позвал меня к себе в кабинет. На столе лежала незнакомая книга. Он взял лист бумаги и что-то нарисовал на нем. «Как ты думаешь, что это?» – спросил он меня. «Шляпа!» – бойко выпалил я.
«Конечно, похоже, – сказал отец, – но смотри, тут ведь целая история: удав съел слона!» Я был поражен – мир уже начал приобретать для меня черты большого шляпного салона. А отец приоткрыл книгу, которая, конечно же, называлась «Маленький принц», и начал читать ее мне. С самой первой страницы, с самого, наверное, сложного для ребенка места – посвящения писателю и критику Леону Верту, который «понимает все на свете, даже детские книжки»…
Отца нет уже более 30 лет. А книга по-прежнему раскрыта передо мной. Его руками. Книга на вырост. Совсем не детская, но написанная с «пониманием детских книжек». Книга о взрослости, недосягаемой для большинства взрослых. Такой же недосягаемой, как далекое детство. Детство навсегда захлопнулось для взрослых в детских книжках, где они порой доверяли детям свои самые главные откровения. Детство захлопнулось вместе со взрослыми откровениями. И взрослые перестали быть откровенными с самими собой.
Автор одной из биографий Сент-Экзюпери швейцарский публицист Йозеф Ханиман признавался: «Я прочитал “Маленького принца” первый раз в детстве. Должен сказать, что и я не сразу понял его. Он меня довольно озадачил. И до сих пор озадачивает. Это детская книга для ребенка, который живет в каждом из нас». Можно сказать и так.
Открытая книга детства о взрослости, в которой можно разобраться лишь вместе с самым близким, самым любимым человеком.
А взрослые бегут от своей взрослости, прежде всего в глазах детей, подменяя ее штампами поведения, имитирующего взрослость, которые негласно принимают в качестве норм. Источники происхождения этих норм взрослые порой не в силах растолковать детям (и самим себе), потому что они уже были придуманы и приняты кем-то до них. А усомниться в этих правилах, тем более при детях, даже там, где они откровенно бессмысленны, – разрушение их фиктивных защит от мира, с которым они неспособны совладать по-взрослому. Для этого нужно мужество.
«Когда он явился на эту планету, пьяница молча сидел, уставясь на полчища бутылок – пустых и полных.
– Что это ты делаешь? – спросил Маленький принц.
– Пью, – мрачно ответил пьяница.
– Зачем?
– Чтобы забыть.
– О чем забыть? – спросил Маленький принц. Ему стало жаль пьяницу.
– Хочу забыть, что мне совестно, – признался пьяница и повесил голову.
– Отчего же тебе совестно? – спросил Маленький принц. Ему очень хотелось помочь бедняге.
– Совестно пить! – объяснил пьяница, и больше от него нельзя было добиться ни слова.
И Маленький принц отправился дальше, растерянный и недоумевающий.
– Да, право же, взрослые очень, очень странный народ, – подумал он, продолжая путь».
В словосочетании «совестно пить» – ключевое слово «совестно», взрослое слово. Только звучит оно не как слово правды, а как слово оправдания. Не по-взрослому. Поэтому «дети должны быть очень снисходительны к взрослым».
«Маленький принц» – это книга-исследование. Исследование взрослости, проба взрослости на человеческую прочность. Этим дети заняты постоянно, даже если о взрослом речи впрямую не идет. Заняты разведкой своего будущего. А хорошая литература удовлетворяет не просто потребность «почитать» – потребность «поговорить» с собой самим о том, что значимо для всех, но по-особому волнует тебя. Особенно там, где растущее самосознание еще не готово к такому разговору. Но всегда ли готово к нему «выросшее», взрослое самосознание?
Лучшее средство от баобабов
«Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты – это твои действия, и нет другого тебя». Экзюпери фактически повторил Гегеля, который написал: «Истинное бытие человека есть его действие».
А вот другая цитата: «Внутренний мир человека есть лишь концентрация внешних форм его поведения. Когда нас, западных людей, обвиняют в том, что у нас все деланное, поверхностное и показное, то говорят лишь одну половину истины и опускают вторую, а именно – то, что все это уходит внутрь наших душ и становится органично присущим нам. Мы не только снаружи, но и внутри такие. Во всяком случае, внутренний мир современного западного человека есть лишь концентрация улыбки от уха до уха по голливудским образцам».
Это – философ Александр Зиновьев, на тот момент «западный человек», как и Экзюпери.
Оба они посвящали себя писательскому ремеслу. Оба считали главным строительство прекрасного мира внутри себя. Оба были военными летчиками. Летчиками Второй мировой. Экзюпери, правда, добровольно явился на военный аэродром 5 сентября 1939 года – на следующий день после того, как Франция объявила войну фашистской Германии. Выучился пилотированию нескольких моделей военных самолетов. Зиновьев впервые сел за штурвал штурмовика Ил-2 лишь весной 1945 года, но до этого (с 1942-го) воевал в кавалерии, затем в танковых войсках, да и боевых вылетов на его долю хватило, несмотря на конец войны… Летали над одним и тем же полушарием, на которое взирали из кабины. Оба остро переживали за то, что видели и тогда, и потом. А в итоге увидели разное: один – «Планету людей», другой – «Глобальный человейник».
Что тут удивительного? Они так не похожи друг на друга: «добрый» летчик и «злой» летчик, гуманист и язвительный скептик в оценке многого «человеческого в человеке».
Вот тут позволю себе не согласиться. Если верить биографам, Экзюпери в последние годы заточил себя в кьеркегоровском «рыцарском замке» скорбей, одиночества и безысходности. Искал успокоения в алкоголе, из-за которого его даже на время отстранили от полетов. И внутри этого замка выстраивал «Цитадель», свою последнюю и главную книгу, которая начинается словами:
«...Ибо слишком часто я видел жалость, которая заблуждается. Но нас поставили над людьми, мы не вправе тратить себя на то, чем можно пренебречь, мы должны смотреть в глубь человеческого сердца.
Я отказываю в сочувствии ранам, выставленным напоказ, которые трогают сердобольных женщин, отказываю умирающим и мертвым. И знаю почему.
Были времена в моей юности, когда я жалел гноящихся нищих. Я нанимал им целителей, покупал притирания и мази. Караваны везли ко мне золотой бальзам далекого острова для заживления язв. Но я увидел, мои нищие расковыривают свои болячки, смачивают их навозной жижей, садовник так унавоживает землю, выпрашивая у нее багряный цветок, и понял: смрад и зловоние – сокровища попрошаек. Они гордились друг перед другом своими язвами, бахвалились дневным подаянием, и тот, кому досталось больше других, возвышался в собственных глазах как верховный жрец при самой прекрасной из кумирен. Только из тщеславия приходили мои нищие к моему целителю, предвкушая, как поразит его обилие их зловонных язв. Защищая место под солнцем, они трясли изъязвленными обрубками, попечение о себе почитали почестями, примочки поклонением. Но, выздоровев, ощущали себя ненужными, не питая собой болезнь, бесполезными, и во что бы то ни стало стремились вернуть себе свои язвы. И, вновь сочась гноем, самодовольные и никчемные, выстраивались они с плошками вдоль караванных дорог, обирая путников во имя своего зловонного бога».
Это пишет автор «Маленького принца».
Как минимум выясняется, что гуманизм – не такая уж простая штука. Иногда он приводит думающего человека к необходимости заново покопаться в нравственном фундаменте сознания. И в процессе такого копания могут быть невольно, но от этого не менее болезненно задеты самые разные интересы тех, кого ты по определению обязан щедро одаривать своим априорным и безусловным гуманизмом. «Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом?» – спрашивал Воланд Левия Матвея.
Это – с одной стороны.
С другой – язык не поворачивается назвать Зиновьева «антигуманистом» и циником. Ну не оскорблял он советских людей – всех вместе и каждого по отдельности – выражением «хомо советикус». Нельзя забывать, что Зиновьев был прежде всего мыслителем, аналитиком, исследователем, а потом уж писателем. И для него как для мыслителя сначала вставал кантовский вопрос: как возможно то, о чем я мыслю? Какой возможен человек в нечеловеческих условиях жизни? Это и интересует Зиновьева-писателя. Но разве это – не сквозная тема литературы? Как возможна любовь на полях всеобщей ненависти войны? Перечитывайте Хемингуэя, Ремарка, Воннегута. Неслучайно самое важное про войну написано (снято, поставлено, спето) о любви.
Зиновьев указывает на иной способ сохранения человеческого в окружении, в осаде бесчеловечного – быть «суверенным государством из одного человека» (к чему стремился). А за границами этого государства так и будет простираться во все стороны безгранично-безличный Человейник.
Экзюпери же верил в то, что каждый личностный мир представляет собой такое «суверенное государство», что все они – даже не государства, а суверенные планеты, по которым странствовал Маленький принц. Уже поэтому из них нельзя выложить Человейник. А вот слиться этим мирам в одну большую Вселенную людей, ни на момент не утрачивая своей суверенности, для них было бы вполне естественно.
Однако этого не произойдет, покуда они не «приручат» («свяжут узами», поясняет Экзюпери) друг друга. Настолько, насколько далекие от них явления всегда будут напоминать о том, кто приручил. И пшеницу полюбит не знающий вкуса хлеба Лис. Ведь ее колосья уподобятся золотым волосам любимого друга – Маленького принца. А от одной мысли о барашке, где-нибудь за тридевять галактик съевшем розу, о существовании которой мы даже не подозревали, нас будет бросать в оторопь... Это – нормальное состояние человека, которое, кстати, отличает его от барана.
Это беспокойство об инопланетной розе спасает Планету людей от корней баобабов, способных разорвать ее в один момент. Баобабы воспринимают планету как ком почвы, назойливо прилипший к их корням. Таковы они потому, что понимание – не их стихия. Тем более – понимание детских книжек.